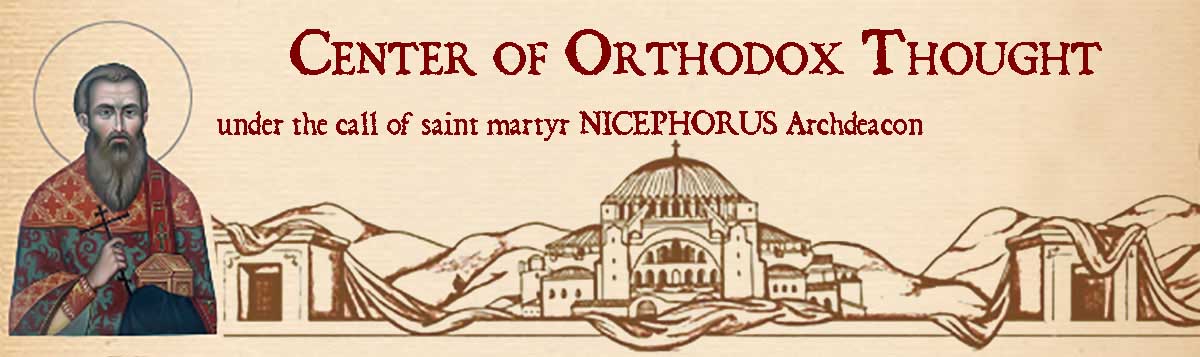Григорий Разбежкин — потомок первых основателей села, по прозвищу которых оно и называлось когда-то Разбежкино — был на хорошем счету и в правлении колхоза, и в местной партячейке. Первое: в церковь он не ходил совершенно, второе: в воскресенье — день отдыха, который колхозники никак не соглашались перенести на иной — обязательно работал. Да еще как: в субботу (все это замечали) нарочно не закончит нормы, а при отметке бригадиром скажет: «Неможется сегодня что-то… Однако ты пиши полностью: я завтра докончу…».
А то ещё так: придёт в воскресенье к бригадиру и просит: «Ты, Иван Никитич, разреши мне сегодня лошадь взять: поеду Фросе Круглой норму закончить… Дело её, сам знаешь, трудное: ребятишек четверо, а трудодни-то на одну идут».
Покачает головой Иван Никитич: «Чудной ты человек, Григорий». Ну а лошадь даст — потому что выполнение плана ему на руку.
Собрания и доклады Григорий посещал. Никто, правда, не помнит, чтобы выступал он или вопросы какие задавал; да ведь это и не требуется. Главное — обязанности свои, т.е. посещение, выполняет человек аккуратно, где нужно, руку единогласно поднимает, чего ещё?
Секретарь ячейки даже в пример другим Григория ставил: «Смотрите, скажет, вот Разбежкин Григорий: бедняк без подделки, в колхоз записался в числе первых, от религиозного дурмана освободился, работу успевает и за себя сделать и другим помочь, устаёт, думаю, не меньше вашего, а гражданский долг свой не упускает».
Махнут рукой колхозники: «Так на то он и Гришка — Молчок». Однако пример Григория не был впустую. Глядя на него, Пётр Шаманин, что церковным старостой был два раза, тоже перестал ходить в церковь и тоже по воскресеньям работать начал. Пегов Семён — певчий бас, гордость и украшение церковного хора — тоже, Фрося Круглая, Марья Карасёва, Денис Куликов — порядочно набралось таких… «Воскресная бригада» — прозвали их колхозники.
Однако официальному оформлению бригада не поддалась. Работала только там, где ей казалось нужным. Так и оставили её в покое: помощь от неё безусловная, а люди глупые.
Два года уже работает «воскресная бригада», а не распалась. Наоборот, ещё несколько новых членов приобрела: вошёл в неё и плотник Телков Федос. Дивились колхозники над ним: такой религиозный раньше был, а тут как отрезало: ни ногой в церковь… Весной заболел он, свалился с ног как-то сразу: дело его одинокое, кому нужен? Ну и лежал один, смерти ждал себе и дочке своей, сиротке Фене восьми лет, что с ним жила. В старое время, конечно, помог бы кто-нибудь, а теперь кому? У каждого своей заботы и горя, хоть захлебнись… Так и лежал плотник, умирая и на Феню маленькую глядючи… Однако не умер; воскресная бригада выходила. Женщины из бригады стали дежурить около него, в избе порядок завели, Феню приютили, из мужчин кто-то работу его в колхозе начал делать, а трудодни на него записывать; одним словом, поболевши полтора месяца, встал плотник и всё в порядке… Но в церковь перестал ходить, обошла и его «воскресная».
В 1933 году Рождество Христово в воскресенье пришлось. Колхоз работал в бывшем удельном лесу по лесозаготовке; торопились наряд свой к празднику кончить, а не успели. Пустяки остались, а всё же не окончено: скажут «религиозный дурман выполнение плана сорвал». Бригадир, Иван Никитич, свой человек, а тут побоялся:
— Ничего не поделаешь, ребята, сказал, придётся ночевать: утром закончим пораньше и домой праздновать.
Потемнели лица, а что сделаешь? А тут-то Гриша Молчок и подходит:
— Отпускай, говорит, — Иван Никитич, людей домой. — Мы, — говорит, — останемся и завтра полегоньку к вечеру закончим. А люди пусть вздохнут.
Обрадовался бригадир.
— Всей бригадой останетесь?
— Ну да, всей… Пегов съездит с вами домой; ты ему отпусти там чего можно сегодня на ужин и завтра на день. Он привезёт.
— Добре, — покрутил головой Иван Никитич, — чудные вы люди, право, — и пошёл собирать колхозников к отъезду.
Опустел лес. Морозный день вечерел. В длинном дощатом бараке горит каменка. Несколько женщин метут пол, моют стол и лавки, развязывают узелки и достают из них спрятанные иконы… Мужчин нет: они снаружи стоят, укрывшись от ветра за стеной барака, и внимательно слушают Григория Лукьяновича…
— «И не было Им места в городе, и пошли Они в пещеру, куда пастухи загоняли стадо на ночь…» За городом была эта пещера… За городом умер и Господь наш… Не освятил Он городов ни рождеством Своим, ни спасительною смертью. Ничего не принесли ему города в дар, как сделали это люди земли… Нечего было принесть городам: ничего они не имели, кроме выдуманной не во славу Божию городской безполезной жизни… Спеленала Пречистая рождённого Бога и Сына, положила Его в ясли, а Сама, я думаю, заплакала, Боже мой и Господи, говорит, прости мiр Твой, что такую встречу устроил он Тебе». А Иосиф, наверное, с болью в сердце думал: «Господи, почему Ты избрал меня бедного и слабого хранить Тебя и Матерь Твою? Нет у меня денег, нет ни слуг, ни власти, чтобы достойно устроить или защитить Вас… Вот лежишь Ты в овечьих яслях, плачет в холодной пещере Матерь Твоя, а я не знаю, чем утешить Её»… И дал Господь знак плачущей Матери Своей, Иосифу, отцу нареченному, всему мiру жаждущему Его и не ждущему, и городам, в которых не захотел Он ни родиться, ни умереть: великое множество ангелов явилось на небе и запели священную песнь: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение»… Утешила, обрадовала и успокоила всех эта песнь. Утешилась Пречистая, видя, что Сын Её не гневается на род людской, принеся ему волю к добру и мир между собой и Богом. Утешился Иосиф, поняв, что не нужны Господу земные удобства и что неисчислимые легионы ангелов имеет Он и Сам поможет сохранить Пречистую Деву Богородицу и Младенца-Господа… И земля обрадовалась, что снято с неё проклятие Божие за пролитую кровь пастуха — Авеля. За кровь первого мученика из пастухов, Авеля, пастыри получили первые весть об Искупителе, первые и сподобились поклониться Ему.
Григорий Лукьянович замолчал, и поднял глаза к небу, как будто ожидая оттуда славословия ангелов. И все тоже посмотрели на небо.
Заскрипели сани; возвратился Пегов с продуктами.
В бараке было уже убрано и чисто. На передней стене виднелись развешенные иконы, у стены на столе, покрытом скатертью, лежал узелок о. Григория и оловянное блюдо, заменяющее подсвечник: несколько свечей горело перед иконами. О. Григорий развязал свой узелок: в нём оказались подрясник, епитрахиль, две книги и походная дарохранительница. Началось богослужение. Уставщик затруднился бы определить название этой службы. Это было богослужение по уставу, который останется в Церкви на вечные времена, в память последнего — одиннадцатого гонения на христиан. Два раза в году будет совершать Церковь такое богослужение: в день памяти мучеников, исповедников и праведников, в годину отступления просиявших, и в день прощения Руси — празднуя воскресение нашей Родины.
Молящиеся твёрдо знали порядок службы, так как молитвы и чтения были самые общеупотребительные. Богослужение как бы конспектировало собой необходимый запас знаний веры, которого верующие нигде, кроме церкви, получить не могли. По обычном начале, по «Отче наш», народ пел «Верую» и затем читалась глава Второзакония, содержащая 10 заповедей. После этого все пели «Во царствии Твоем», «Богородице Дево» и читалось Евангелие. Затем следовало: «Воскресение Христово видевши», ирмосы «Отверзу уста моя», и общеизвестные песнопения: «Под Твою милость», «Заступнице усердная», «Правило веры» и др. После «Отче наш» священник причащал запасными Дарами, и верующие пели «Да исполнятся уста наша». Затем следовала лития по усопшим. В дни великих праздников пелись тропарь и ирмосы праздника.
В конце службы о. Григорий обратился к народу с поучением.
— Почему, братья, — сказал он, — мы здесь — в лесу собрались славить Родившегося Господа? Разве нет церкви в нашем колхозе, где сейчас тоже идёт служба, и где поют те же священные слова: «Христос раждается — славите»… Почему мы не вместе с ними, почему наши молитвы не идут к престолу Божию из одного храма? Потому, дорогие мои, что получили мы весть от Господа «не возвращаться к Ироду, а иным путём идти в страну свою». Когда призвал к себе Ирод первосвященников и книжников, и спросил их: «Где должен родиться Царь Иудейский?», те отвечали ему точно: «В Вифлееме Иудейском». Узнали ли когда-нибудь матери избиенных Иродом младенцев, что кровь их была пролита по точному указанию первосвященников храма Божия? Осознали ли когда-нибудь эти первосвященники, какое преступление совершили они, открыв Ироду место рождения Господа? Неужели не поняли они, что не Ирод, а они — главные виновники Вифлеемской резни? «Но откуда, спросят некоторые, могли они знать цель вопроса Ирода?» Да разве они не знали, что такое Ирод? Достаточно хорошо знали, но у них были свои соображения; это выяснилось впоследствии, когда спасшегося от Ирода Господа убили сами эти первосвященники. Вот поэтому, братия, мы не в их храме. Мы не откроем Ироду, в чьих душах родился сегодня Христос. Мы не хотим крови младенцев. «А разве — спросит кто — священник в колхозном храме предаёт Господа?» Да, предаёт. Страшное это дело творится сознательно. И не только предаёт своего Царя, но и младенцев Ироду к избиению готовит. Знаем мы, что все посещающие церковь взяты на учёт агентами Ирода. Они не считают своим царём Ирода, а ждут своего царя, и вот священник колхозного храма указывает на них Ироду и говорит: «Смотри, вот в душах этих младенцев Родившийся сегодня Царь. Они не верят мне, что ты — Ирод — царь их: они пришли сюда молиться о пришествии царства Того и, следовательно, о конце твоего, Иродова»… Поэтому мы и в лесу. И не только этим явным предательством страшны священники Божии на службе Ирода. Более страшны они тем, что сами убивают в душах младенцев надежду на спасение от Ирода. Они уверяют от имени Бога, что будто бы Ирод и есть настоящий, законный, Самим Богом поставленный царь, и что только Ирод может дать земле мир, а людям благоволение… Поняли ли вы, братия, почему мы не там? Мы кричим мiру, принявшему Ирода: «Не верьте, Ирод не наш царь». Не слушайте лжесвященников: они уже не Божьи, а Иродовы слуги. Никогда не сможет Ирод дать земле мир и людям благоволение: только кровь невинных будет лить во всё время царствования своего». И когда голос наш дойдёт до сознания младенцев и поймут они правду, тогда рухнет царство Ирода, и во вновь освящённом нашем сельском храме будет священником иерей Божий, слуги же Иродовы не будут допущены к престолу Божию…
Пока женщины готовили ужин, мужчины собрались около Пегова, который рассказывал о. Григорию:
— Встретил я Тимку — комсомольца. Идёт — лица на нём нет: «Что с тобой, Тима?» — спрашиваю. А он махнул рукой: «А тебе что? — говорит, — чем поможешь?» и пошел себе. А я, как мимо его дома-то проезжал, заскочил на минутку, будто соли забыл взять. Таня всё мне и рассказала: вызвали Тиму вчера в ячейку и говорят: «Сколько раз предупреждали тебя, чтобы Таньку прогнал? Дочь кулака, лишенка, а ты — комсомолец — с ней живёшь? Выбирай: или прогони — одна она в ссылку пойдёт или из комсомола долой и тоже в Сибирь пойдёшь»…
— Ну, что же Тима?
— Пришёл домой: «Не могу, — говорит,— прогнать тебя, Таня. Собирай вещи: завтра нас обоих на ссылку возьмут». Это он в ячейку шёл решение своё объявлять, когда меня встретил.
— Так ведь их вместе не сошлют, разлучат. Надо было тебе сказать об этом Тане. До завтра они могли бы ещё в город куда скрыться. Там как-нибудь устроились бы. Как же это ты, Сёма, а? — заволновался о. Григорий.
— Я сказал ей это, батюшка. Она говорит: «Куда пойдём? Будь мы одни, а то с годовалым ребёнком. Шестьдесят вёрст до города: не дойдём, — говорит. — А и дойдём, так к кому?»
— Надо было тебе сказать им, чтобы пришли к нам сюда. Под утро отвёз бы кто из наших. А в городе можно бы пока к Раеву их поместить: у него с милицией большой блат. Скажет: «Племянница из колхоза», — и устроят бумагу. А потом на комбинат в Черниговку можно бы. Там сейчас тысячи рабочих требуют и всё мало.
— Я так и сказал Тане, батюшка.
— Ну, а что она?
— Заплакала. Спасибо, — говорит, — не боитесь пожалеть… Придут попозднее.
— А кто отвезёт их, братцы?
— Это уж мне дозвольте, — протиснулся к о. Григорию Денис Куликов. — Главное, я знаю, где дом Раева и спрашивать никого не буду.
— Ну, вот и хорошо. Да принеси тулуп Тане и что-нибудь Тиме одеть. Да и мальчика завернуть во что-нибудь тёплое надо… Раеву я напишу, и ты расскажешь. Ну, а пока давайте к столу подвинемся: готово уже…
Женщины были довольны: какой там ни есть Иван Никитич, а прислал такого, чего не грех покушать и в сочельник. Постное. А на завтра прислал всего получше и побольше, чем обычно: знает, праздник всем. Все стали у стола лицом к иконам, дружно спели «Рождество Твое» и «Дева днесь», о. Григорий благословил трапезу и все сели. Ели с аппетитом, и неудивительно: с утра говели все, а работа тяжёлая, да ещё на свежем воздухе.
— Эх, и житьё же было, братцы, — начал свои воспоминания Фёдор Игнатьевич. — Всё было по порядку, всё по Божьи. Когда надо — работай, когда надо — отдыхай. Пост — кайся, праздник — веселись. Ах Ты, Господи. Вот ведь жизнь была. А теперь?.. — Он безнадёжно махнул рукой.
— Может, Господь даст — опять будет… Доживём, — робко вставила Марья. — Мы бедно жили в старое время, ну, а сравнишь с теперешним — вроде богачи были…
— Есть в Усть-Катаеве один архиерей тайный, — заговорил о. Григорий и все повернулись к нему, — святой жизни человек; в прошлом году было ему видение.
Видел он женщину красоты неописуемой, всю окровавленную и истерзанную и много детей за платье её держалось. Перед ними две дороги: одна немощёная, грязная, а другая вроде как шоссе. На грязной дороге тяжёлый воз стоит, а на шоссе — тарантасик лёгонький. Какие-то люди на распутье ждут, посмотреть: куда пойдет женщина. А она говорит: «Я пойду там, где мой венец». Тогда вышел из толпы кто-то, вроде как хозяин немощёной дороги и говорит: «Твоего венца больше нет… Но если ты и твои дети повезут мой воз по этой тяжелой дороге, то я дам тебе крест и орла с твоего венца». «Зачем тебе крест и орёл? — вдруг сказал второй голос и вышел как бы хозяин шоссе. — Иди по моей дороге и повези мой лёгкий тарантасик. Я отдам тебе за это обод от твоего венца. А крест и орла можно сделать после, если ты захочешь». Женщина колебалась и не знала, что ей выбрать.
Владыка не видел конца видения, и не знает, по какой дороге пошла женщина. Ему было страшно, и стоял он растерянный. И вот, в лучах света подошёл к нему Государь. «Послан я, — сказал он, — объяснить видение».
«Женщина — это Россия, дети — верные чада её. Скоро пошлёт Господь выбор дорог. Счастлива будет она, если изберет путь немощёный и возьмёт крест и орла: только они составляют корону, а обод — ничто, мишура… Изготовить же новый крест и нового орла — нельзя. Не Господний крест и не Русский орёл выйдут из рук обманщиков. Настоящий же крест и орёл, на какой хочешь обод прикрепи — будет корона». «Но почему крест и орёл у хозяина немощеной дороги, — спросил Владыка, — а обод венца у того, который предлагает лёгкий путь?» «Потому, — отвечал Государь, — что явным мiру хочет сделать Господь закон Свой: кто ищет Царства Божия и правды его — тому прочее, т.е. обод, Сам Господь прилагает; а кто выбирает прочее, страшась тяжестей, связанных с крестом и орлом, тот ничего не получит, ибо и прочее в руках Божиих. Предлагающий тяжёлое физически не будет препятствовать духовному. А тот, уговаривающий на лёгкое — антихрист: у него только мишура, погремушки, ничего он не имеет, и дать ничего не может. И дорога его легка только по виду, и тарантасик его не сдвинут человеческие силы. Где крест и орёл — там Церковь и Родина, а где один обод венца, там страданьям нет конца»…
Записал Владыка своё видение и повелел верным быть готовыми.
Рассказ о. Григория о таинственном видении как бы перенес всех в особый мiр: никто не слыхал, как отворилась дверь барака и Тима с Таней и ребёнком, войдя, с удивлением рассматривали непонятную для них картину собрания.
***
Тима вернулся из ячейки темнее ночи. Походил безцельно по избе, подошел к висячей люльке и стал смотреть на спящего сына. Встревоженная Таня прошла и стала рядом, положив ему руку на плечо.
— Семен заезжал тут, — заговорила она, — что, спрашивает, с Тимой?
— Поди не знал, как выскочить, когда ты ему всё объяснила… — не отрывая глаз от сына, сказал Тима.
— Нет, не испугался… Говорит, — Господь вас к Себе ведёт. Ты, говорит, Таня, верующая, а без венца живёшь, ребёнок не крещёный. А Тима хороших людей сын и сам хороший, а пошёл по злой дороге и вас тащит. Жалея, Господь на другой путь переводит вас.
— Ишь ты. Переводит на такой путь, что тебя с сыном в прорубь спущу, а сам на верёвку…
Таня вздрогнула.
— Семён говорит, что бежать нам надо: а то всё равно разлучат. Меня одну сошлют. Мишу в детдом отдадут, а тебя отдельно арестуют.
— Куда бежать-то? Завтра рано по нашу душу придут.
— Семён говорит, сегодня попозднее к ним на делянку придти: кто-нибудь из воскресной бригады в город нас увезёт. Там у них знакомые есть, помогут устроиться и бумаги достанут.
Тима повернулся к Тане:
— Диво. Все от нас, как от чумных шарахаются, не то что помочь, а…
— Семён говорит: «Пускай Тима, как придёт, то перед иконой станет и скажет: «Твой я, Спасе, спаси меня! Понял я, что не той дорогой шёл, и путь, который Ты даёшь мне, принимаю. С Таней повенчаюсь. Мишу окрещу и буду жить по Твоему закону». И пусть икону поцелует и ничего больше пусть не думает: всё равно не поможет, а Господь Сам всё устроит».
— Диво! Воскресная бригада о Боге говорит, а сами в церковь не ходят.
Тима постоял молча, потом взял Таню за руки, крепко сжал их:
— Знаешь, Танюша, я почти то же сказал Ему, когда из ячейки шёл. Разъяснил мне секретарь, как разлучат нас. Да я и сам это знал… Иду оттуда и говорю Ему в небо: «Если Ты есть — спаси нас: Твой всегда буду», а если нет, хотел всем нам конец сделать.
— Теперь видишь, — заметила Таня, — что Он есть. Ведь надо было, чтобы Семён тебя встретил, что-то забезпокоился о тебе, чтобы заехал — не побоялся и сказал, что нужно сделать. Это ведь не само собой: это Он нам сделал… Теперь дело за тобой, Тима…
Не выпуская рук Тани, Тима повернул голову к сыну и, смотря на него отуманенными глазами, сказал:
— Доставай икону…
***
Денис, повернувшись, увидел стоящих Тиму и Таню.
— Хороши мы хозяева, — воскликнул он, — гости пришли, а мы на них никакого внимания. Простите. Чего же вы стоите у дверей; раздевайтесь, отужинайте с нами.
Все засуетились. Тиму усадили, как почётного гостя, рядом с о. Григорием. Начали угощать.
Тима не мог понять, что это за люди? Почему такое участие принимают они в нём? Какие откровенные разговоры. Как будто это другой мiр…
— Что, очень устали? — спрашивали Таню женщины, усаживая её за стол между собой.
— Совсем обезсилели, — отвечала Таня. — Только вышли мы из дому, слышим: какие-то люди идут. А нам нельзя показываться. Зашли мы за баньку, стоим. И те, как на грех, остановились: курят и разговаривают. Промёрзли мы вовсе. Я молюсь: только бы Миша не заплакал: услышат — пропали… Слава Богу: проспал всё время. Ушли те, мы скорей дальше. На самом выходе из села почта едет. Знаете ведь нашего почтаря-то: беда, если увидит. Куда деваться? Положил меня Тима в снег, забросал сверху и сам зарылся. Лежим… Пронеси, Господи. Проехали, слава Богу, не заметили… Мы дальше. До самого поворота на делянки дрожали, ну, а как свернули в лес, то успокоились, пошли, только ослабели вдруг как-то…
Разговор оживился. Тима слушал и дивился: даже в семьях теперь боятся так говорить. Собеседники обращаются к Григорию Лукьяновичу, называют его «батюшка», но «поповского» в нём ничего не было. Впрочем, Тима знал из докладов в ячейке о «тайноцерковниках»; даже в этих докладах они назывались «священниками»; «попами» называли своих колхозных, которые выполняли их задания. Их презирали, а о тайных священниках мечтали: «Вот найти бы такого, покаяться и умереть…» — сказал однажды видный коммунист после доклада о тайных священнослужителях.
«Как странно, — думал Тима, — что в ответ на мою молитву я не только получил спасение от разлуки, но и человека, который может помочь мне духовно».
— Батюшка, — сказал он, — мы с Таней, когда молились там, дома, то дали обещание повенчаться и Мишу окрестить.
О. Григорий обнял Тиму:
— Всякую душу, идущую к Богу, наш долг довести до истинного, тернистого, узкого пути, ведущего к Нему… А по пути-дороге сам человек должен идти. Понимаешь? Повенчаю вас и Мишу окрещу, сначала же поисповедаю и причащу. По Его пути направлю вас. Божиими сделаю. Трудно будет вам; но радостно. Мы все радостные… Устроят вас братья, и передам я вас другому духовному отцу, истинному староцерковнику. Денис, когда повезёт вас, много вам нужного расскажет, а сейчас уже поздно… Давайте, братья, вставать, новых чад Христос Церкви Своей прислал, а нам братьев дорогих.
Совершив над кающимися необходимые священнодействия, о. Григорий отправил их в город к своим единомышленникам.
***
Раев Илья Тихонович работал приёмщиком в заготзерно. Должность трудная и опасная, а оплата низкая: поневоле всякие комбинации человек изобретать начнёт: жить-то надо. Это все понимали, и пока человек не попался, преступлением это не считалось. Ну, а попадёт человек — другое дело: тогда он враг народа и от него подальше надо держаться…
Все знали, что Раев тоже какие-то махинации делает. Ну, да пусть, лишь бы не влип. Ведь какая сложная у него отчётность. Шесть форм с горизонтальными графами, семь с вертикальными, две со смешанными. И всё это должно сходиться. «Итого колхозы». «Итого совхозы». «Итого частные хозяйства». А потом сводки по сельсоветам, по районам, сведения о проценте выполнения, данные о проценте недовыполнения плана и ещё много всего…
Четыре предшественника Раева из-за этой отчетности на шесть лет без суда и следствия полетели. А раз сами не могли всего учесть, то другие за них насчитали, да и свои недочеты туда же сунули: всё равно, мол, им отвечать. Через два года потом на элеваторе излишки зерна обнаружились, которые целиком покрывали предполагаемую растрату; однако это не изменило их судьбы, напротив, ухудшило. Им добавили ещё статью «на обвес колхозников» и увеличили срок ссылки на два года. А ещё через год выяснилось, что все предыдущие подсчеты оказались не верны: нет ни недочетов, ни излишков. Тогда «за сознательное запутывание отчётности» прибавили осуждённым ещё по году.
Раев пока работал благополучно. Несколько раз ревизии внезапно налёт делали: всё в порядке оказалось. Местное начальство было довольно этим: своей бдительности приписывало, а Раева считало идейным работником. И то, было за что.
За Рождественской трапезой у Раева сидели два коренастых колхозника; жена поместилась около мужа, и от времени до времени подливала в рюмки или подавала гостям закуску.
— По мешку свалил прокурору, секретарю и начмилу*, — сказал старший из колхозников, — да по мелочи два мешка развёз.
— Добре, — заметил Раев. — На четыре центнера я тебе квитанцию выпишу, а ты ещё пуда два завези секретарю комсомола: новый он у нас, а уже тявкать начинает.
— Что же, завезу… Сколько сволочи этой у нас развелось, Илья Тихонович. Мужику за труды по граммам дают, а колхозный хлеб как в прорву валят…
— За это право и боролись они, братец. А ты, Семён, кому и что — рассказывай.
— Я? — отозвался молодой колхозник. — Как ты наказал, нашим отвёз: Суркову, Климову, Анне Григорьевне, бабушке-просвирне…
— Ну, как они там?
— Да плохо; Суркова на работу не берут, лишён, говорят. Если бы не вы — давно бы с голоду помер. У Климова вся внутренность отбита. Умирать его домой отпустили; Анна Григорьевна за ним ходит: убивается.
— Злодеи. Святого человека убили…
— А ведь и ты, Илья Тихонович, под огнём ходишь. Попадёшь — тоже не помилуют. Как это ты концы сводишь?
— Все под Богом ходим, Андрей. Выводить расход пока нетрудно. Видишь, я тебе квитанцию на четвёртый лабаз ставлю. А кто им заведует? Кофанова, депутатка в Верховный Совет. Шишка — одним словом. Лабаз худой, крыша течёт, хлеб всё равно пропадает, да где ей за порядком смотреть? Ей не до того. И за квитанцией ей смотреть некогда.
— Господи Боже мой. Сколько хлеба гибнет. Людей голодом морят, детишки с голоду пухнут, а они, гады, что делают? У нас в колхозе картофель сгноили, а если мужик с голодухи себе пол пуда возьмёт, сейчас расстреляют.
— Отречёмся от старого мiра, — засмеялся старый колхозник. — Вспомнишь, как разные студенты да купцы, дворяне да гимназисты с красными флагами ходили и орали: «Долго в цепях нас держали»…
— Да, задним умом мы крепки, — сказал Раев. — А теперь рассуждать нечего, а надо как можно больше своих спасать.
— Это так, Илья Тихонович. Если бы в прошлом году не выписал ты нам квитанций на пустые возы, не пережили бы мы эту зиму.
— Зато в этом году вы без квитанций умудрились пару возов нашим подбросить.
— Да. Вот Ефремову вдову за то, что она пальцем мешок прорвала и карман полугнилого зерна для детей набрала, на десять лет в лагерь услали. Где она теперь, бедная?
— Серп и молот — смерть и голод… Пока не одумается народ, всё так будет.
Гости выпили, и закусили горячим пирогом.
— Подъехали к нам, — сказала вдруг, взглянувши в окно, жена Раева. — Кто бы это мог быть?
— А вот сейчас увидим, кого Бог послал, — сказал Раев.
В комнату вошли Тима с Таней и их возница.
***
Участковый милиционер Анохин, которого вечером пригласил Раев «посидеть», был уже навеселе; теперь с ним можно было говорить о чём угодно.
— Как вы завсегда человеку помочь готовы, — начал хозяин, наливая гостю очередную рюмку, — то с вами откровенно, как с родным поговорить желаем. Племянница, вон видите, с мужем ко мне на праздник приехала. Из колхоза. Как порассказала, жалко мне её стало; может, вы поможете им из колхоза на производство вырваться. За нами дело не постоит.
— Да, с мужем-то трудней: больше строгости. Все теперь бегут без оглядки: в колхозе никто работать не хочет. Бабе-то с ребенком легче. Трёхмесячное удостоверение ей дам. А тебе, брат, — обратился Анохин к Тиме, — придётся такой фокус учинить: завтра выпей немножко, для запаха, и явись к начальнику нашего района. Так, мол, и так: «послан от колхоза по наряду на работу в комбинат… Виноват, праздник вчера; встретил знакомого, выпили вроде немного, а как документы, деньги и билет вытащили — не помню. А может, сам потерял где… Доехать до комбината не с чем». Понимаешь? Пошумит начальник, спросит, кто твою личность подтвердить может. А ты: «Никого, мол, не знаю в городе, а только вчера, когда мы в пивной были, то милиционер документы проверял у нас»… Это мой участок, понимаешь? Вызовет меня начальник, спросит — я подтвержу: «Был такой случай, помню». И дадут тебе путёвку. А на заводе тебя пристроят: им там рабочих до зарезу надо.
— Спасибо, Андрей Андреевич: научил…
— Ну, как, Илья Тихонович, доволен? Магарыч с тебя.
— Хорошему человеку за доброе дело и двух не жалко. Маша, чего ты там смотришь? Давай, что у тебя там есть.
***
Анохин не подвёл: Тима получил справку, и Тане дали временное удостоверение. Передавая документы, Раев заметил:
— Неплохой человек Анохин. Злу служит, а сам зла старается не делать. И много таких… Если бы не они — ни один бы не спасся. Господь зачтет им это.
— Дай Бог ему прозреть совсем, — ответила Таня. — Рассказывала мне мама, что был когда-то такой город: Содом-Гомор назывался. Трёх праведников в нём не было, а по закону Господню нет права у такого общества на Божьем свете жить. Приговорил Господь уничтожить этот город. Однако один праведник всё же был в городе, и Господь перед уничтожением беззаконников вывел из города не только самого праведника, но и всех близких ему людей. Чтобы не огорчить своего слугу: потому какая радость этому праведнику в спасении, если все, кого он любил, погибли? Верю я, Илья Тихонович, что когда Господь назначит срок уничтожению большевиков, то выведет Он от них к этому сроку всех нам близких и дорогих. Чтобы не огорчить нас, слуг Своих, не омрачить нам радость освобождения. Так же, как Тиму моего вывел, так и Анохина и всех, кого нужно, уведёт от них. Всех, кто хоть каплю воды нам сейчас даст — всех таких наградит Господь избавлением в тот страшный день.
— Аминь. Хорошо говоришь, Таня, — сказал Раев. — Где училась ты?
— Нигде. Мама учила. Царство ей Небесное…
— Ну, а с тобой, Тима, я сегодня уже не увижусь: твой поезд скоро уходит. За Таню и Мишу не безпокойся: будут как у своих. Устраивайся. Найди Акимова и скажи ему: «Меня прислала мать». Он спросит: «А как звать твою маму?» Ответишь: «Одна она у нас обоих». Это значит, что ты — тайноцерковник. Церковь — наша общая Мать. Ну, до свиданья. Поцелуемся.
***
Подходя к билетной кассе на вокзале, Тима лицом к лицу столкнулся с Тараном — секретарем его партячейки. По злобной радости на его лице Тима понял, что тот нарочно выслеживал его. Инстинктивно Тима повернулся и, раздвигая людей, стал вмешиваться в гущу пассажиров. Протиснувшись к противоположной стене, вытер пот с лица и стал осматриваться, ища глазами двери. У входа он увидел ряд малиновых фуражек железнодорожного ГПУ и понял, что на двери надеяться нечего; оставались только окна, выходящие на платформу. Отворив окно, Тима выпрыгнул на перрон, пролез под колесами стоящего товарного поезда и побежал между вагонами. Кто-то крикнул: «Лови!», и Тима услыхал, что какие-то люди бегут с другой стороны поезда, чтобы перехватить его на выходе.
Неожиданно поезд тронулся и, ускоряя ход, начал обгонять его, не давая возможности подлезть под вагоны и перебежать на другой путь. В отчаянии Тима схватился за поручни лесенки и побежал рядом с вагоном, не имея возможности вскочить на ступеньку. Высокий кондуктор в казённом тулупе резко закричал сверху:
— Нельзя. Куда лезешь?..
Не сознавая, крикнул ему Тима фразу, которой его научил Илья Тихонович:
— Меня послала мать…
И случилось нечто неожиданное: кондуктор вдруг нагнулся, схватил Тиму за руку и втащил на площадку. В это время четыре человека в малиновых фуражках выбежали из-за последнего вагона. Кондуктор заслонил собой лежащего на полу Тиму.
Город кончился. Снежные поля дымили поземицей, ветер забрасывал тормоз колючими льдинками. Тима поднялся.
— Спасибо, брат, — протянул он руку кондуктору.
Тот молча снял рукавицу, взял его руку в свою и, грея её своей теплой рукой, сказал:
— Некогда было спросить, как зовут твою маму?
— Одна она у нас обоих, — ответил Тима условной фразой.
— Расскажи, что можно, — попросил кондуктор и, усадив его на скамейку, сел рядом с ним.
Просто, без прикрас рассказал ему Тима свою историю, не скрывая своих прежних заблуждений.
— Ты едешь в обратную сторону от комбината, — сказал кондуктор, — и это хорошо. Акимов вчера арестован. Если бы ты приехал туда и стал бы его спрашивать, тебя могли бы спровоцировать: ведь ты в лицо его не знаешь?
— Нет, не знаю.
— Что же теперь тебе делать? — Тима не знал. Замолчал и кондуктор.
— У тебя в бумаге написано название комбината? — спросил кондуктор.
— Нет. Только что еду в распоряжение промкомбината.
— Это лучше… Тут, видишь ли, есть ещё один промкомбинат, там тоже имеется пара наших людей. А рабочие везде нужны: примут и там. От станции, куда мы сейчас едем, это верст двенадцать будет. Только тебе нужно раньше спрыгнуть, а то те могли позвонить на станцию и там, может быть, уже ожидают тебя. Деньги-то у тебя есть?
— Есть немного.
— Это хорошо. На комбинате спроси Турова. Скажи ему, что от матери пришел. Что можно, он сделает. Счетоводом он в конторе работает. Вот возьми хлеба на дорогу, и ещё чего-то там жена положила. Я-то обойдусь, а тебе поужинать.
— Спасибо, брат. Поужинать-то у меня есть чем: снабдил Илья Тихонович.
— Об Акимове там предупреди… Вот за поворотом сейчас поезд тихо пойдёт: подъём тут, там и спрыгнешь. Тут и дорога влево будет на село, там переночуешь. С твоей бумагой тебе правление колхоза даст комнату на ночь.
— Спасибо, брат. Никогда не забуду тебя.
— Не благодари: одной матери дети… Ты молодой — нужен будешь ей.
Паровоз запыхтел на подъёме.
— Как спрыгнешь — сразу ляг и лежи, пока не пройдёт совсем поезд, а то с заднего тормоза кондуктор может увидеть. Ну, прыгай. С Богом.
Тима, поддавшись всем корпусом назад, прыгнул в темноту, пробежал несколько шагов по инерции рядом с поездомб и затем лёг вдоль линии среди ремонтных шпал, лежащих сбоку. Кондуктор проводил его глазами, пока не прошёл последний вагон, и облегченно перекрестился.
***
Климову стало совсем плохо. В сочельник позвал он к себе Анну Григорьевну и велел позвать Кроткова, могильщика при Сергиевском кладбище.
Это было самое старое кладбище в городе. Ещё при Иване Грозном присланные сюда стрельцы срубили там церковь во имя Сергия Радонежского, и по имени этой церкви кладбище при ней стало называться Сергиевским. Древняя церковь на этом кладбище не ремонтировалась с начала войны и грозила обвалом. Службы в ней давно не было; кладбище было не популярно; хоронила тут своих покойников только слободская беднота.
Кротков был ещё довольно крепкий старец, лет 67—68. Имя его было Филипп, фамилия — Еварестов, но все знали его только по прозвищу. Как он жил и чем, мало кто интересовался. В два-три месяца раз приезжал к нему кто-то из начальства, проверял похоронную книгу, платил жалование по 27 руб. 50 коп. в месяц, хвалил чистоту и порядок на кладбище.
Анна Григорьевна нашла Филиппа около церкви, расчищавшего снег.
— А… — встретил он её, — ещё живы там? Пятый денёк ко мне глаз никто не кажет.
— Вашими молитвами живы ещё, Владыка святый, — поклонилась в пояс Анна Григорьевна. — Благословите.
— Господь благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — Филипп снял шапку и перекрестил широким крестом гостью.
— С недобрым пришла, Владыко.
— Что такое, спаси, сохрани нас Царица Небесная. Зайдём в сторожку, в тепле расскажешь.
В узенькой сторожке под колокольней было тепло. Филипп подбросил дров в железную печку, придвинул Анне Григорьевне табурет поближе к огню, а сам сел на скамейку у окна:
— Говори, что недоброе?..
— От Климова пришла: просил Вас придти: умирать хочет.
— И это всё недоброе?..
— А чего ещё хуже, Владыка?
— Недоброе было бы, когда он «там» для спасения своей жизни предал бы своих братьев и от Бога отрёкся… А то всё по-доброму: он мученический венец от Господа приемлет, а мы — ходатая за нас доброго имеем… Всё хорошо… Скажи: приду послезавтра.
— Плох он очень, Владыка, не умер бы.
— Скажи, что я велю подождать до послезавтра. Рано приду. Сегодня и завтра мне нельзя.
Анна Григорьевна опять взяла благословение, поклонилась и вышла.
Владыка Филипп пришёл на другой день Крещения действительно рано: в четвёртом часу утра. В комнате умирающего было несколько человек, пришедших проводить Сергия Климова в последний путь. Владыку все встретили радостно. Благословив всех, он подошёл к постели Климова и стал одевать подрясник, епитрахиль и поручи. Присутствующие вышли: началась исповедь.
— Самое главное: не могу простить им, Владыка… — порывисто заговорил Климов, когда епископ, прочитав молитвы перед исповедью, сел к нему на кровать. — Нет сил простить… Если бы просто мучили, а то… — замолк он, задыхаясь; слезы бежали из воспаленных глаз по впалым щекам.
— Слушай, мученик Христов Сергий. В страдании своём ты венец приял от Христа — Бога нашего. Имея крепость Его, низложил ты мучителей, сокрушил демонов немощныя дерзости. Мысль о том, что ты не можешь простить, — не твоя, это лукавый свою последнюю дерзость тебе учиняет… Не только простил ты, но и любишь врагов своих. Не мучь себя этим: это не твоё.
— Зло на них в моём сердце, Владыка.
— Нет в тебе зла. Скажи, желал бы ты им в отмщение таких же мук, какие они тебе причинили?
Климов покачал головой:
— Нет, не надо…
— Вот видишь. А горших от твоих, адских мук — желаешь им?
Опять покачал головой Климов:
— Бог с ними… Не надо.
— Вот видишь. Нет зла в твоём сердце… В тебе только горечь и недоумение. Несогласие на такой исход, на победу зла над правдой. То же испытываю и я, смотря на тебя. Но ведь это не последний акт: это не всё. Исход только ещё впереди. Когда мы увидим заключительные, последние акты и исход этой борьбы, тогда наша горечь и недоумение сами пройдут…
— Но я не люблю их, Владыка.
— Помнишь, Сергий, сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслию твоею и всем помышлением твоим». Знай, что так любить можно только Господа. Чувством, волею и разумом: всем… К остальному, то есть не к Богу, такая любовь невозможна, и не требуется поэтому. Человек любит других людей или только чувством, или только волей, или только разумом. Редко чувством и разумом вместе; ещё реже чувством и волей… Жену любил ты чувством, не рассуждая разумом, достойна ли она любви, и не принуждая к этому волю… Меня и Анну Григорьевну любишь разумом, рассуждая, что мы заслуживаем таковую от тебя, ибо и сами любим тебя. А вот мучителей своих люби одной волей… И это правильно: по чувству ты не можешь любить их, а разум и вовсе не согласен на любовь к ним. А к врагам и не нужна любовь чувством и разумом, только волей. Это и принуждает тебя не желать им того, чего не хочешь себе.
Чудным, неземным светом прояснилось лицо Климова. Широко открылись глубоко впавшие глаза: через тёмный потолок избы увидел он нечто незримое другим и, не отрывая глаз от видения, Климов чуть слышно прошептал:
— Причащай скорей, Владыка: идут за мной…
Владыка Филипп торопливо накрыл ему голову епитрахилью и, прочитав разрешительную молитву, позвал людей приподнять Климова для причащения и проститься.
Без пяти минут в шесть часов Климов скончался. Все присутствующие обращались к нему как к святому; про тело говорили «мощи»; просили молитв за себя, ублажали умилительными песнопениями…
«Приидите, мучениколюбцы вси. Христова страстотерпца течение совершивше, благочестно прославим Сергия славного. Сей бо змиеву главу сокруши и кровию землю освяти. От сущих зде преставися к вечным жилищам и от вседержительных рук подвигов почесть прият. Просит очищения душам нашим и велия милости».
«Днесь вселенная вся страстотерпца просвещается зарями и Божия Церковь цветы украшаема, мучениче Сергие, вопиет ти: угодниче Христов и предстателю теплейший, не престай молити о всех рабех твоих».
«Течение совершив истинное, мучителей всю крепость победил еси и приял еси венец от руки Вседержителя, Сергие всечестне, и показался еси ангелом сопричастник».
Как велика власть твоя, Церковь!
В страшный час, когда изменники объявили кровь святых твоих «заслуженным возмездием за контрреволюцию», ты дала верным твоим радость непосредственного зрения святых и торжество прославления страдальцев. Практический опыт первых веков мученичества Церковь воскресила вновь в ответ на клевету гонителей, на ложь лжебратии, на попытки террором уничтожить катакомбы. Немедленным прославлением мучеников, восторгом немедленного получения венца от Царя Славы, верою в прощение всех грехов за кровь пролитую и муки принятые подняла Церковь чад своих до уровня исповедников давно прошедших времён.
Провожая мощи мученика, известного вчера как просто Сергий, прославляя терпение его, молясь ему уже как святому за муки вчерашние, зажгла Церковь в душах чад своих ревность к Господу. Огнём восторга святости видимой и ощущаемой, очистила Церковь души верных от страха мук, и пробудила жажду исповедания.
Только видевшие это поймут древних, выходивших на улицы с ликующим криком: «Я — христианин». Уже есть это в Советах и будет массовым явлением.
И как некогда эта сила победила языческий миiр, так и теперь только эта же сила победит безбожие. Поэтому исповедничество есть единственный способ борьбы, с которым не справился, и никогда не справится атеизм.
Для человеческого ума непонятна быстрота, с какою Церковь подняла, расширила и укрепила дух мученичества.
В тысячах экземпляров распространяются жития новых страстотерпцев. Древним дыханием четьи-миней веет от них. Читая житие современного мученика, помещенное в одной тетради с мучеником, имя которого он носил, теряешь грань времени… Будто и не было перерыва в борьбе Церкви за Господа… Да и был ли в самом деле? Первовековую практику записей опросов мученика, его ответов, распространения этих записей и чтения их перед или после богослужений, опять оживила Церковь. Из неприступных, казалось бы, архивов ЧК, ГПУ, НКВД, ревтребуналов и всевозможных судов достаёт Церковь подлинные протоколы. В сотнях экземпляров переписывают их от руки и перепечатывают на машинках тайные христиане и христианки. Вера, что способствующий своим трудом распространению и прославлению памяти святого мученика, находится под его особым покровительством, подтверждена там сотнями известных всем знамений и явлений.
Каким почитанием и любовью окружена там память мученицы Лидии (Громаковой) и мученика Кирилла (Атаева)! Кто не знает «там» их биографий и кто из верных не пролил слёз умиления, читая их жития? Лидия служила секретарём-машинисткой в отделе Леспромхоза. Уличённая в печатании житий по букве «К» (в её машинке нижняя ножка буквы была сломана, что и было замечено в экземпляре, попавшем в руки спецотдела), она подверглась в подвале ГПУ таким истязаниям, что стоявший на часах у дверей камеры рядовой войск ГПУ Кирилл Атаев не выдержал: в исступлении застрелил он двух палачей и в рукопашной схватке с остальными был убит. Последние его слова были обращены к мученице: «Святая, возьми меня с собой». — «Возьму»… отвечала еле живая Лидия.
Эти и другие леденящие душу подробности принёс Церкви тоже солдат ГПУ, более уже не возвратившийся к своей службе, ревностный распространитель жития святых Лидии и Кирилла и сам впоследствии мученик…
Молитвами их, Христе Боже, спаси нашу Родину!
***
Жена Раева и Таня присутствовали при последних минутах жизни Климова, при его прославлении и погребении мощей. Как на каждого из присутствующих, так и на Таню, всё это произвело огромное впечатление. В следующую ночь было ей как бы видение.
Видела она безпредельное, покрытое снегом поле и по нему всюду разбросанные трупы убитых. Чудовищные огни каких-то взрывов слепили ей глаза, сотрясая воздух, гудели летающие чудовища… А она с Тимой и Мишей шла по вздымающейся от внутренних взрывов дороге, не зная куда, но с мыслью о направлении на запад.
И вот, впереди будто овраг, и в нём ждут их страшные, с большевицкими звёздами, звери… Ни обойти оврага, ни миновать нельзя. И говорит будто Тима, как тогда: «Сначала тебя с Мишей, а потом себя»… И молчит будто бы она, потому что видит, что другого выхода нет. Тима стал уже доставать что-то из-под солдатской шинели, и стала она готовиться к смерти, как вдруг кто-то сзади говорит Тиме: «Не надо, друг»! Оглянулась: стоит святой мученик Сергий Климов, держит Тиму за руку, и говорит так ласково: «Что же это ты? Просила, просила меня заступаться за вас, а нужда пришла и имя моё забыла? Да ведь через этот овражек я вас духом перенесу». И в самом деле, чувствует Таня, как берет их святой за руки и вот сразу они на воздух поднялись… И нет уже ни поля, ни оврага, а город.
Большой, огромный город. Опустил их Святой на улице у какого-то здания, и говорит: «Это церковь св. Владимшра, зайдите». Подняла глаза Таня: непохожа на церковь, дом будто большой, в коридор зашли. Церкви ещё нет, а слышат — вправо за стеной поют по-церковному. Нашли дверь, туда зашли. Тут уже правда церковь: служба идёт. Священник монах, глаза большие, борода тёмная, худой такой — сладостно так служит. А св. Сергий будто за плечами стоит и тихо говорит: «На знамение вам будет монах этот: когда он тайно скроется от верящих ему, то и вы из города дальше бегите… И монаху тогда уже не верьте больше: изменит Церкви Православной, мучителям и гонителям поклонится сам и вас всех — мучениколюбцев Христовых — к тому же уговаривать будет».
И проснулась Таня.
Так ясен был сон, и до таких мельчайших подробностей запомнился, что сразу признала она его за вещий. Он и оказался таковым.
После, когда он уже частью сбылся, и Таня с Тимой и Мишей в большом чужом городе ходили в церковь св. Владимiра — узнала Таня этого монаха.
За левым клиросом у стены становилась всегда Таня на службах. Выше среднего роста, худенькая блондинка, с вечным вопросом в глазах… И часто плакала во время проповедей. Не совмещались в её сознании красивые речи монаха с тем, что она про него знала… Помнит ли её монах?..*
***
Когда Тима, после побега из города, благополучно добрался до комбината, он с сожалением узнал, что накануне в числе некоторых других работников комбината был арестован и Туров, к которому направлял его кондуктор. Но для Тимы дело сложилось удачно, так как заведующий искал себе людей, и принял его без особой проверки.
— Ладно, — сказал он, — будешь учётчиком третьей бригады, а поместишься в комнате, где Туров жил. Там старуха мать его ещё осталась, пусть её в клуб переведут.
— А чего в клуб? Она мне не помешает; может, когда починит или постирает что…
— Починить-то может, а постирать, — не знаю: калека она. Ну да как сам хочешь, не выгонишь — пусть живёт пока.
В середине февраля Тима неожиданно получил письмо от Тани. Писала она, что знакомый ему кондуктор заходил к ним и рассказал, где и как он устроился. О себе она просила не безпокоиться, хотя она очень скучает по нём и хотела бы как можно скорей переехать к нему.
У Тимы камень свалился с сердца. Очень удивлён был он, что его не теряли из виду; очевидно, кондуктор справлялся у кого-то здесь, т.к. адрес Тане сообщил точный.
После смены, ночью написал Тане длинное письмо, в котором, между прочим, написал и про старушку, мать Турова. «Она мне стала, Танечка, вроде как мать. Она совсем инвалид: ходить почти не может, только руками ещё владеет; и глазами видит хорошо. Целый месяц была она как сумасшедшая. Я почти силой с ложечки её кормил. Один раз рассказал рабочий с моей смены, что сын очень любил её и всегда старался чем-нибудь её порадовать. «Вот, например, она любит печёные яблоки, так он, бывало, купит яблок, на смене даст мне (это рабочий сказал, указывая на себя), а я в духовой камере напеку их. А потом на ночь она всегда крестила сына, а он руку ей целовал». Вот я, узнав это, купил яблок, попросил того рабочего напечь мне их в духовой камере, а когда пришёл со смены, принёс обед, покормил её, потом и говорю: «А это вот вам, мама, на десерт». И подаю ей яблоки. Задрожали у ней губы, посмотрела она на меня так, что — веришь ли, Таня — сердце перевернулось… Чтобы не расплакаться, я и говорю: «Ты кушай, мама, а я спать пойду: устал очень на смене… Перекрести меня»… Опять взглянула она на меня, перекрестила, а как поцеловал я ей руку, так упала она навзничь головой, едва я успел её подхватить, и зарыдала. И я заплакал. Обнялись и плачем оба. Потом она немного отошла и говорит: «Скажи, Тима, это тебя наши прислали: утешить меня?»
«Нет, говорю, мама. Это Господь прислал меня к тебе на воспитание. Одного сына воспитала, как нужно Господу, теперь другого таким же сделай».
Опять заплакала она и долго, ровно так плакала. Потом ещё раз меня перекрестила, сама поцеловала, и велела спать идти. Всё сердце в меня вложила. А как узнала про тебя и Мишу, так не чает, когда ты приедешь и она внучка (Мишу она внучком зовёт) будет иметь. Веришь, как дочь тебя ждёт! Я знаю, и ты её полюбишь. А тесно нам не будет: она никому не мешает. Хотели её два раза от меня взять и в дом старости увезти, но не дал. «Не мешает она мне, — говорю, — всё равно скоро умрёт». И удивительно: все как-то согласились: «пусть живёт!» А теперь выяснилось, что в доме старости мест нет, и все уже не обращают на неё никакого внимания. Привыкли — перезабыли.
В начале марта я пришлю тебе, Таня, денег, и ты приезжай: праздник вместе встретим».
***
Арестованный Акимов два месяца сидел без допроса. В конце марта его неожиданно вызвали. Следователь задал ему обычный вопрос:
— Вы, конечно, знаете, за что арестованы?
Акимов, искушённый в опросах ГПУ, не стал отвечать, как обычно делают новички: «Нет, не знаю»… За таким ответом могут последовать меры, «способствующие» арестованному «вспомнить» свою вину и признаться без опроса.
— Безусловно, — сказал он.
— Вот и отлично, — закивал головой следователь, — значит, мы быстрее закончим. Рассказывайте всё по порядку, возможно полнее. Чистосердечное признание уменьшает вину.
— Всё, что вам известно, я подтверждаю, гражданин следователь, — ответил Акимов, — а что вам ещё не известно, — для чего мне самому себе на шею вешать? Вы — следователь, я — обвиняемый. Ваша задача — изловить и повесить, моя — по возможности оправдаться. Так что видите: самому мне рассказывать не приходится. Спрашивайте, а я отвечать буду правильно.
— С умным человеком приятно поговорить, — улыбнулся следователь: — Ну, хорошо… Принимаю. Вы — староцерковник?*
— Я — православный…
— Э, нет! Если я с вами по-хорошему, то и вы со мной тоже. Не путайте меня. Я всё же разбираюсь в ваших делах… И вы знаете, кого мы под именем «православных» разумеем. Те пока ещё дозволены цензурой. Вы отвечайте, прошу вас, как мы договорились, прямо, точно… Староцерковник вы?
— Да, я — православный староцерковник.
— Приятно слышать. Какую роль выполняли вы в этой нелегальной, противоправительственной организации?
— А вам что известно об этом, гражданин следователь?
— Ловко! — усмехнулся тот. — Ну, хорошо. Известно, например, что вы в 1924 году под фамилией Лебедев были приговорены к шести годам за тихоновскую контрреволюцию. Отбывали срок в Кеми, откуда в 1927 году умудрились бежать. Знаем, что на комбинате вы выполняли обязанности явочной квартиры.
— Что же вас из моей деятельности интересует?
— Всё! Как, например, вы бежали, кто вам помог в этом, как достали документы, где были, и что делали в период с 28-го года по 31-й, как проникли в комбинат, кто в этом вам помог, кто являлся вам и куда вы их направляли?.. И вообще всё.
— Ну, что же, расскажу по порядку… Бежал я из Кеми сам — один: при любом карауле за три года можно слабые стороны найти. А бежал с моторным катером, на котором начальник лагеря своих гостей обратно в Архангельск отправлял. В катере начальника искать меня не стали, а я в бочке из-под мазута сидел. Довезли меня благополучно. Документы в Архангельске у блатных за два червонца достал. Потом в Ярославль уехал. На лесозаготовках там два года работал — ударником был. Можете справиться. А потом уволился и сюда на комбинат приехал. Документы у меня были в порядке, так что ничьей протекции и помощи не требовалось.
— Как же вы установили связь с вашими, если никого не знали?
— На лесозаготовках не с кем было держать связь, да и некогда. А на комбинате ГПУ помогло.
— Как это ГПУ?
— Да так. Вы помните, гражданин следователь, Судакова? Того самого, которого после опроса в психиатрическую больницу поместили? Наша бригада в это время в больнице старое паровое отопление сменяла. Вот тогда Судаков и дал мне письмо к своим.
— Откуда вас знал Судаков?
— Не знал он меня, а дал письмо просто первому встречному. Это, по нашему понятию — меня ему Господь послал, а по вашему — случай.
— Кому было это письмо?
— Его отцу и жене. Они жили на Достоевской, 73.
— Знаю. Ну, дальше?
— Дальше, я отнёс письмо. Про Судакова, сами знаете, тогда весь город говорил, значит, и я знал, что своим письмом несу. Принёс письмо, познакомился и открылся им… Вот и связь.
— С кем они вас связали?
— С епископом Родионом познакомили, с Ельцовым, Пухановым, Ляшенко…
— А с Климовым? — иронически усмехнулся следователь. — Смело можете в знакомстве с ним признаться: он тоже умер. Да… Что же это вы меня покойниками кормите? Судаков, Родион, Ельцов, Пуханов, Ляшенко, что мне в них? Из гробов их повесткой даже ГПУ не вызовет. Вы мне живых людей давайте, которые с вами работали.
— Тут уж я не виноват, гражданин следователь, что вы всю организацию покойниками сделали… Впрочем, я ещё остался один.
— Один? Нет, вы ещё не один! А как фамилия того низенького, чёрного, с которым вы вместе ехали, когда у вас диспут с попом вышел?
— С каким попом?
— Могу показать… Припас для вас.
Следователь подошёл к двери и крикнул: «Гражданин Громогласов!»
Вошёл худой, высокий, бледный священник в рясе и даже с крестом. Остановился, не доходя до стола, у которого сидел Акимов.
— Подойдите ближе, — сказал следователь. — Этот?
— Да, этот, — кашлянув в руку, отвечал тот.
— Расскажите по порядку, что о нём знаете.
— Перед Рождеством возвращался я из города, куда был вызван по делу. В поезде рядом со мной сидел вот он (священник указал на Акимова) и его знакомый, которого он называл Вася. Напротив нас сидели рабочие из депо. Сперва они подшучивали надо мной, но видя, что я не отвечаю, обратились ко мне прямо: «Как это, батя, случилось, что попы с безбожниками вместе социализм строят?» Я счёл нужным, согласно указаниям моего начальства, ответить на это: «Попы, — сказал я, — с безбожниками не идут вместе, но атеистов, осуществляющих практически завет Христа, хотя и не веруя в Него, они поддерживают. Не потому поддерживают, что они атеисты, а потому, что дело, которое строится руками этих атеистов, соответствует полностью идеям Христа». — «Как это, — спросил кто-то, — Карл Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Каганович, Молотов соответствуют идеям Христа?»
«Да, — отвечал я. — Не их взгляды на назначение и цель жизни человека, а практическое устройство земного общежития для него, для этого самого человека. Это устройство по идеям Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина соответствует устройству, указанному Христом в Евангелии».
Тут его знакомый Вася (священник указал на Акимова) не выдержал. «Что же, — спрашивает, — будущее коммунистическое общество, которое хотят построить атеисты, и Царство Божие, которое ожидаете вы, — идентично?» Как сказал он это «идентично», я сразу понял, что это за птица: рабочий так не скажет. «Да, говорю, идентичны, так как одними людьми строится и по одному плану». Тут уж его Вася (опять указал он на Акимова) подпрыгнул просто. «Как это — кричит — одни люди и один план?» — «Не волнуйтесь, — говорю, — очень просто. Разве вы не знаете, что Христос обратился со Своим Евангелием к «трудящимся и обремененным», т.е. к пролетариям, по-современному. К этому же классу дал призыв и Маркс: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот видите: одни и те же люди званы на устройство Царства Божия и коммунистического общества. А насчёт плана — потрудитесь прочитать в Деяниях, где указано, чтобы «всё было общее и никто ничего не называл своим». Вот вам общий план. Руководители Церкви оказались слепыми вождями, не сумели они объединить званных и повести их к целям, указанным Господом. Поэтому отняты у них бразды правления, и переданы детям, которые, как в притче, «не ведая Бога, исполняют Его предначертания».
Тут уже и сам этот (он снова указал на Акимова) не выдержал: «Вы — достойный сын отца лжи, — говорит он мне. — Вы проповедуете евангелие не того Христа, Который от Девы Марии вочеловечился и при Понтийском Пилате страдал, умер, погребён и воскрес. Вы апостол антихриста. (Так и сказал он мне). Разве к пролетариату только принесено Евангелие правды? Совсем не туда зовёт верующих в Него Господь наш, куда зовёте вы. И вовсе, — говорит, — Маркс, Ленин, Сталин не дети, которые, не ведая Бога, предначертания Его исполняют, а сознательные слуги противоположной Богу силы. Бога, — говорит, — они хорошо знают, но служить хотят антихристу. И вообще христианство и коммунизм исключают друг друга не только по духовной сущности, но и по формам внешней, физической организации».
Не знаю, до чего бы он договорился, только знакомый его спохватился, останавливать его стал. «Брось, — говорит, — Акимов, нам время слезать». Встали и ушли. Я в окно видел, как здоровались с ним рабочие комбината, и понял, что тут-то они и работают. Лицо его мне показалось знакомым, а дома я вспомнил: в Кеми мы оба с ним сидели. Я тогда ещё не понимал Божией правды в революции, и за то наказание отбывал. Ну, а когда вспомнил, то согласно долгу моей пастырской совести и подписке я сообщил этот факт об Акимове в спецотдел комбината. Фамилии товарища его я установить не мог.
— Ну? — обратился следователь к Акимову. Странен был его взгляд и выражение лица…
— Точно передал всё отец, — ответил тот. — Спасибо!
Священник молчал. Следователь посмотрел внимательно на обоих:
— Я не о точности вас спрашиваю, — сказал он Акимову, — а о том, слышите ли вы и понимаете ли, как учит о вас Православная Церковь? Православная Церковь без всяких там добавлений: староцерковная, дораскольничья, пустынная Церковь! Вот как должно и мыслить, и веровать — если кто хочет веровать — гражданам советского союза. Никто его за эту веру пальцем не тронет! А вы — кто? Раскольники вы! Раскольники в своё время объявили патриарха Никона и Петра Великого антихристом, и вы: Сергия и нас антихристами зовёте. А фактически, как те хотели религией только спасти привычный им экономический и политический строй от ломки, так и вы, не по идеям религиозным нас не принимаете, а по невыгодному вам политическому строю и экономическим формам. И как тех преследовали, ссылали и казнили патриархи и правительство, так и с вами вынуждены поступать и мы. Будем вас преследовать, ссылать, казнить не за веру православную, — она свободна у нас, — а за раскол противонародный, за ваше восстание на мiр, за ересь вашу! Подчинитесь! Прекратите раскол, признайте правду Церкви, и мы вам даже нечто наподобие единоверия устроим. Но в расколе — искореним!
Акимов молчал, всматриваясь в лицо следователя. Священник стоял, прислонившись спиной к углу шкафа, и временами кивком головы подтверждал следователя.
— Попробуйте опровергнуть эту очевидную истину! — воскликнул тот. И странно: он был взволнован…
— Мне кажется, — тихо и смотря прямо в лицо следователя, начал Акимов, — вы сами понимаете разницу между теми раскольниками и нами. Тех раскольников Церковь и правительство могли ещё, по понятиям тех времён, преследовать, ссылать и казнить. Те и чувствовали себя раскольниками. А мы не раскольники: мы сама Церковь. Раскольники не отвергали, что то, от чего они откололись, есть действительно Церковь, хоть, по их мнению, — погрешившая, а мы за ними, — Акимов указал на священника, — не признаём этого. Мы говорим, что у них не Церковь и они не священники.
— А кто же мы, по-вашему? — крикнул священник.
— Вы? Вы — жрецы врат адовых! Вы то, что в образе жены, сидящей на звере, видел Тайновидец. Вы — та блудница, которая старается заменить человечеству невесту Агнца, убежавшую в пустыню.
Следователь побледнел и воскликнул:
— Что же, по-вашему, они благословляют не именем Бога, и совершают не таинства, а чёрные мессы?
— Кощунство страшное! Хула на Духа! — хрипло сказал тоже побледневший священник.
— Нет, не кощунство и не хула, — твёрдо отвечал Акимов. — Вы оба хорошо знаете мученика Христова и исповедника, который сказал: «Всякий раз, когда Церковь, вопреки слову Божию, опыту истории и здравому смыслу, устраивается в советском союзе на положении легального общества — в эпоху апостасии — она неизбежно превращается из чистой девы, невесты Христовой в церковь лукавнующих, в блудницу, в сборище сатанинское. Она неизбежно становится жалкой рабыней, пробуждающейся к всемiрной деятельности Вавилонской блудницы… Алтарь и святилище тогда превращаются в блудилища, а благодать Святаго Духа отходит от блудницы, не спасающей уже, а терзающей чад своих». И ещё предупредил он нас: «Сергиевская блудница, постепенно углубляясь и расширяясь, получит всемiрное значение и утвердится на водах многих. Прочно усевшись на звере, начнёт упиваться кровью святых». Вот кто они, гражданин следователь. Нет, мы не раскольники!
— Нет, конечно… Вы не раскольники, — медленно сказал следователь. — Но понимаете ли вы, Акимов, что если вы правы, то значит, не мы — коммунисты используем Церковь для укрепления нашей власти, а «тот» использует нас для подготовки блудницы… как вы говорите. А какая цель, скажите, «тому» опираться на блудницу, а не на нас непосредственно?
— В вас и в вам подобных, — медленно и тихо заговорил Акимов, — ещё долго будет светиться образ Христа. Вы ещё печатанные печатью и даром Духа Святаго. На вас опереться «тот» ещё не может: вы испугаетесь его, вы уже боитесь его… Только когда подменит блудница в ваших душах образ Господа на образ зверя — лжехриста, когда патриарх московский со знаменьми и чудесами объявит мiру второе пришествие Господа состоявшимся, царство Божие на земле организованным, когда воздаст он всенародно Божественные почести антихристу, тогда жрецы его, — Акимов посмотрел на священника, — вместо печати дара Духа Святаго запечатлеют вас именем и числом имени «того»… зверя… И тогда уж сможет он на вас положиться…
— Так, по-вашему, — только вам он и страшен, а все остальные сами шею ему протянут? — спросил следователь.
— Нет, он страшен всем, — почти шёпотом отвечал Акимов. — Как о Христе всякая тварь веселится и радуется, так от «того» всякая тварь в ужас приходит, стенает и спасения ищет. А тем более человек, по образу Божию созданный и печатью дара Духа Святаго печатанный. Всем «он» страшен и все от него в ужасе!..
— Сказанул! — нервно засмеялся следователь. — Вот вам, отец, тема; приготовьте опровержение этих явлений и пришлите мне. Можете идти.
Следователь позвонил и приказал увести Акимова назад в его камеру.
***
Во второй раз вызвали Акимова уже в июне месяце. В том же кабинете тот же следователь опять усадил его против себя и, как будто продолжая старый незаконченный разговор, начал:
— Раньше я служил в Москве. Один раз было у меня на дознании дело одного священника-тихоновца. Фамилии его не помню, а звали его Михаилом. Высокий такой, широкоплечий, из казаков. Так вот он тогда примерно то же говорил, что вы в прошлый раз. «Грех Сергиевщины, — говорил он, — состоит в измене собственным целям, своей сущности, своему призванию как религии, как Церкви. Грех против себя самого, как блуд, есть грех против собственного тела». «Теперь Сергиевщина стала не только неправославное христианство, но и не вера в Бога вообще и не религия». Это он тогда мне на опросе сказал… смелый и большой дальновидности человек. На вопрос, признаёт ли он себя виновным в борьбе против сов. власти и в саботаже построения социалистического общества, он ответил мне: «Борьба за мою веру против советской власти также нормальна, как борьба за свою жизнь путника, на которого напали бандиты». Смелый был священник… Вроде вас. «Вот вы верите, а какая вам польза от веры? И вообще, что толку людям от религии?» — спросил я его на прощанье. «А вот, — отвечал он, — когда вы придёте домой и узнаете, что ваша жена раздавлена автомобилем, то ужас и безсмысленность этого события вас убьют духовно. Вам покажется безсмысленной и всякая любовь, и привязанность, и разум, и сама жизнь. Ну, а мы, верующие, знаем, что есть на всё воля Божия, что любовь вечна и не напрасна, ибо есть жизнь вечная… Мы, верующие, скажем в таком случае: увидимся у Господа»…
«Может и случайно, а пророком он оказался: через несколько месяцев убило мою жену-то… и автомобилем. Да… Вот тогда я и вправду почувствовал безсмысленность жизни. Любил очень я её… Да, а сказать: «увидимся у Господа» ещё не мог… Вы не знали этого священника; он тоже некоторое время в Кеми был. Михаилом его звали: высокий такой, широкоплечий?
— Может быть, и видел, только не помню — ответил Акимов.
— Такого не забыли бы… Значит, не видели. Кстати, он теперь заграницей. В 31-м году в Персию сумел перебраться… Наверное, он и не знает, что на станции Джулфа (это почти у границы) я его видел ещё раз. Не стал мешать ему… Пусть… Если вы когда-нибудь его увидите, то скажите ему, что жену мою Любой звали… А меня Константином… Чтобы нам хоть там, — как он говорит, — увидаться…
Следователь замолчал, судорожно стиснув зубы; углы лицевых мускулов его нервно дрожали… Какую силу воли напрягал этот человек, чтобы сохранить видимое спокойствие!
— Обязательно увидитесь, — твёрдо сказал Акимов. — Это так же верно, как то, что Воскрес Христос и смерти нет. И не напрасна её любовь к вам и ваша к ней. И смерть её нужна была ей для того, чтобы навечно получить вас. Верьте. Ведь вы же знаете, что она была христианка. А насчёт вашего поручения о. Михаилу, то выполнить его наверное не смогу.
— Кто знает? Гора с горой, говорят, не сходится… Вы, между прочим, направляетесь в ссылку в Ленкоран. Это городок на Персидской границе. Вот постановление: прочтите и распишитесь.
Акимов прочитал постановление, расписался и, дивясь путям Божиим, встал, готовый уходить.
— Хоть бы спасибо сказал, — натянуто улыбнулся следователь.
— А зачем говорить? Сам слышишь, брат, как сердце кричит!
— Слышу… Ну, иди… с Богом, брат!
На другой день конвой проводил Акимова в пересыльную тюрьму для направления в административную ссылку.
***
Евдокия Кириллова, мать Турова, души не чаяла в Тане. И Таня отвечала ей настоящей дочерней любовью. Тима удивлялся дорогам к сердцу человека, которыми идёт любовь. Он не замечал, что и в его сердце, рядом с огромной любовью к Тане и сыну, любовью плотяной с естественной точки зрения, выросла непонятная любовь к безпомощной старушке, к её неизвестному ему сыну, к Раеву, Акимову, кондуктору и ко всем «нашим», известным и неизвестным ему. Он ещё не знал, что если бы перед ним вдруг стал выбор — предательство своих, или ссылка, тюрьма и смерть, то он не смог бы уже стать предателем. Безсознательно он уже понимал смысл слов Господа: «любяй душу (жизнь) свою — погубит ее, а погубивый ради евангелия — найдет ее» (Мк 8.35). Когда старушка прочитала это им сегодня, Таня сказала отрывисто:
— А что толку проклятым-то жить? Лучше помереть, как святые умирают.
Тима понял смысл этой фразы, и запомнил её. «Спасти себя — потерять всех, жить проклятым… Конечно, лучше умереть: этим привяжешь к себе всех так крепко, что никто не развяжет».
И Евдокия Кирилловна посмотрела на Таню и сказала:
— Вот и наш Алёша (она теперь никогда не говорила про сына «мой») тоже приобрёл себе много: и брата и сестру и племянника. По слову Господа: «аще в этой жизни, на земле…»
Она не могла продолжать, задохнувшись спазмой слёз.
Таня, вскочив, обняла её:
— Мама, что ты, родная? Спасёт Господь нашего Алёшу! Все ведь молятся за него сейчас. Сам Владыка Филипп молится! Я же рассказывала тебе, что он сказал пред отъездом: не велел сердца своего рвать. «Скажи, — говорит, — Евдокии: дар языков Алексей её имеет от Господа. Пусть не убивается о нём: у кого этот дар есть, не пострадает тот от людей»… «Два — сказал Владыка, — таких с даром языков у нас, в нашей маленькой церкви: Акимов с комбината и её сын. Пусть не боится». А я, дура, плохо поняла, а спросить боюсь, так он сам посмотрел на меня и говорит: «Неправильно понимают, что дар языков это только способность говорить иными наречиями, кроме родного. Это необязательное, иногда только необходимое условие проявления дара. А сам дар выражается в способности объяснить языком тайны Божии и найти им словами дорогу в сердце и сознание слушателя. И в древней церкви и сейчас одинаково в этом выражается дар языков. Сейчас даже обильнее, ибо одним языком говорит проповедник к слушателям, но без дара языков не понимают они один другого. А Акимов и Алексей имеют этот дар: их слова понимают. Чудо Господне!»
Потом благословил меня, и говорит опять: «А тебе, Татьяна, дар неутомимости дан. Ты о нём не забудь, когда сон твой начнёт сбываться».
Евдокия Кирилловна слушала Таню напряжённо — жадно. Непонятные слова Владыки согревали её сердце, излучали надежду… Много раз рассказывала это Таня, и всегда с одинаковым напряжением слушала её калека-мать. И когда Таня, поцеловав её, успокоившуюся, сказала:
— А он, ведь, всё знает!
Старушка твёрдо повторила:
— Да, знает всё: ему открыто…
***
Только небольшое количество избранных, проверенных партийцев, служба которых того требует, имеют возможность получать заграничные журналы и газеты для прочтения. Военком Садовников был из числа таких, и очень гордился этим. Жена его не имела этой привилегии, но те газеты и журналы, которые приносил муж и, чаще всего не читая, через несколько дней сдавал обратно, она читала аккуратно.
Новые горизонты и жизнь, так непохожую на опостылевшую советскую действительность, открывали ей эти газеты и журналы. Всю информацию о жизни свободной Церкви заграницей, о радостях, огорчениях, намерениях и опасениях национальных русских организаций — Церковь (и не только местная) имела через неё. Полученные через Юлию Садовникову копии посланий, определений Синода Зарубежной Церкви, обращения и воззвания Митрополита Антония переписывались в тысячах экземпляров, и распространялись с быстротой регулярной почты.